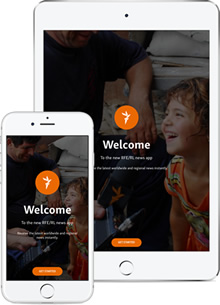Мы в нескончаемом лабиринте, доносятся истошные вопли, за каждым поворотом кого-то мучают и убивают. Из кошмара нет выхода, и чем беспомощней ты, тем безжалостней прожорливые чудовища, хозяева этих мест.
Илья Данишевский, автор романа "Дамоклово техно" (издательство Freedom Letters, 2025), приглашает читателя в беспросветную вселенную страшной сказки, то есть в тот самый мир, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
Эмигрант из России Макс, герой этой книги, знакомится с человеком, который оказывается зловещим персонажем компьютерной игры "Страх и голод" – Покеткэтом, убивающим детей.
"Банальная история, как московский парень из арт-тусовочки, получивший небольшую стипендию на пару месяцев проживания в глухомани восточных немецких земель, влюбляется в местного деревенского мужика с золотой фиксой и котом на аватарке, перемещена в мир бесцензурных сказок братьев Гримм", – объясняет в предисловии глава движения "Русь сидящая" Ольга Романова, а журналистка Елена Костюченко добавляет: "В этот текст проваливаешься как в могилу".
В программе "Культурный дневник" Радио Свобода Илья Данишевский рассказывает о своей книге.
– Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились в московском бюро Радио Свобода и я представлял вас слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал книжную серию "Ангедония". Но вот 10 лет прошло, и мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в "тамиздате", а сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Вы ведь покинули издательство АСТ до начала войны?
– Да, я покинул издательство АСТ до начала войны, потом работал в Центре Вознесенского, его я тоже покинул до начала войны, ну а потом началась война, и всё. Дальше я оформлял визу в Германию, это было еще до мобилизации.
– Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они подчистили "врагов народа", но все равно проскальзывают намеки на то, что было прежде. Скажем, упоминается книга Невзорова, а самой книги нет. Давайте вспомним ваш издательский опыт: что он вам дал?
Мой главный вывод из эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь
– Разочарование в первую очередь. Ну то есть это вообще мой главный вывод из эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
– Другим? Не литературой?
– Литературой, но каким-то совершенно другим способом. Более радикальным. Если ты всю сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и эта коробка оказывается черным ящиком, весьма логично разочароваться в этом. Ну и в самом себе.
– В вашем романе разочарование – одно из главных чувств. А также неуверенность и тревога. Я бы сказал, что книга перенасыщена тревогой, весь роман – бесконечная паническая атака. Все рациональные и иррациональные страхи сконцентрированы на её страницах.
– Я с этим не могу согласиться, она не писалась как рефлексия о тревоге. Понятно, что я использовал собственные чувства, но в основном это про то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, вот эту рефлексию про выбор меньшего зла. Но для меня самого эмиграция стала очистительным процессом. После отъезда я почувствовал себя лучше, чем в последние годы до него.
– Это редкий случай. Как вам это удалось?
– Мне кажется, не настолько редкий. Я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Они сломали через колено свою реальность, и теперь перед ними появляется возможность создать новую. Возможно, она не создастся. Но там в последние годы становилось понятно, что не создастся никакое будущее. При этом было непонятно, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана, никакого метода не существовало.
– Эмиграция – вынужденный опыт пересборки собственной психики?
– Да, конечно. И языка. У меня не так много здесь русскоязычных контактов. Кельн – это не Берлин.
– Ваш герой мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
– Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
– Итак, Макс, ваш герой, получает на два месяца место в резиденции для художников в Германии. Очевидно, здесь отражения событий вашей жизни. И резиденция существует в реальности?
– Конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это сложный опыт. То есть это место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди пасторальных лугов, и больше не происходит ничего. Ранняя весна, очень холодно, еще был снег, вокруг одни леса и поля. Абсолютно подходящее место для такой книги.
– И вы играли в компьютерные игры, которые не знакомы мне. Читателю, который хочет глубже проникнуть в мир романа, наверное, стоит изучить игру Fear and Hunger.
Людей отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, из которой нет выхода
– Игра пересказана, даже ее концовка заспойлерена. Она про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра земли, из которой нет выхода. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные противозаконные вещи. Это такое оккультное средневековое фэнтези.
– Есть в книге много литературных ассоциаций. Скажем, есть тень Саши Соколова в главе про сома-убийцу. Есть отголоски Ильи Масодова (единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге). И мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер, его роман "Вычурный пейзаж", который запрещен сейчас Роскомнадзором и заблокирован на территории России. Глава про замок, которым управляет баронесса, вдохновлена Тони Дювером?
– Нет, Эльфридой Елинек. Наверное, "Похотью" в большей степени. Но не декорациями, а языковой реальностью: как язык и насилие переплетаются. Я много думал об Елинек, перечитывал ее; сейчас я нахожусь в немецкоязычной реальности, и для меня это актуально. И еще "Лесной царь" Мишеля Турнье.
– Да, Феликс – это и Лесной царь, и Жиль де Ре.
– Ну, конечно, собиратель детей. Но при этом история с собиранием детей буквально из Fear and Hunger. Там есть сцена, где Макс гуглит "Покеткэт" и находит цитату из первой ссылки в гугле. В игре у него нет личности. Это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные детские части. И ему можно продать девочку. Очень реалистичная игра.
– Елинек переплетается со средневековым фэнтези…
– Да-да. Мы были в резиденции с художницей Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели с ней сделать колоду Таро. И, соответственно, что я напишу истории к каждой из карт.
– Каждая глава соответствует карте Таро?
– Да.
– Вот этого я не заметил.
– Я вытащил оттуда половину колоды. В итоге я не стал оставлять ремарки, какой текст соотносится с каким арканом.
Из книги "Дамоклово техно"
Мы не пытались сбежать, мы вообще мало чего пытались в Башне авгуров, как бы подавленные ей, изначально невзрачные, мы развивали свою склонность к бескровности и апатии. Сегодня мы продолжение того дня, когда гуляли за пробоиной, нерешительные исследователи пяти метров до первых деревьев; не больше двух кварталов пешего пути, нелюбовь к общественному транспорту, большому пространству, крохотные квартиры, короткие связи, отсутствие глубокого увлечения чем-либо, все до одного антиманьяки с ненавистью к путешествиям, все еще – немного дети крепостной стены. Одетта никогда не занималась разговором о том, что будет после приюта, когда мы вырастем и… что-то случится с нами после этого, она никогда не тратилась на то, чтобы объяснить, чем мы должны стать потом и что надо выработать в себе, ее работа над подвижностью воска сводилась к правильной жизни внутри ее башни. История мироздания – это история, как неизвестный каменщик начал строительство, а затем – однажды – дом, и стена, и колокольня были закончены, и тогда же появились правила жизни (не совсем Одетты Сван, а той, кто могла бы быть на ее месте, – ключницы Башни авгуров), и тогда же в доме появились первые дети, сквозь которых эти правила были пропущены. Мы хорошо знаем, что реальность – это то, что отрезано от чего-то большего верховной властью, и что за этой границей тоже есть реальность, отрезанная от нас так давно, что уже неинтересно. Нет сил найти и освоить ее.
Дальше – все, что она освоила, идет из сказки о Бумажной Грешнице. Она называет автора, но я думаю, такого автора никогда не было. Беглый поиск тоже так говорит. Одетта тоже не была ее автором, но Бумажная Грешница между тем была, и мы все это прекрасно знаем. Раз в год она выбирала одного ребенка. Перед сном мы чаще всего говорили о ней, кто-то говорил, что видел ее лицо в вентиляции и что глаза у нее замазаны воском, но врал; или что ночью она гуляет по саду, ходит вокруг старого колодца и не может перестать ходить до рассвета, или что на четвертом этаже есть ее комната, и что она во всех комнатах сразу и много чего еще. Это нас интересовало – какая она? – больше причины ее присутствия и места ее назначения – вверх по лестнице, в ту комнату, куда она уводила одного из нас. Там обычный железный замок, вряд ли Грешница жила внутри, ее имя объясняло нам, что грешник не запирает себя сам, и его замок – не для того, что охранять и ограждать свой грех, а только для того, чтобы быть узником. Поэтому мы не верили, что она гуляет вокруг колодца, даже прогулка заключенного со связанными за спиной руками была странной; ее преступление было более глубоким, чем этот колодец, и соревноваться с ним в глубине могло только наше с ним детское сродство. Мы слушали только Одетту и преступление Бумажной Грешницы, о котором нам никогда не рассказывалось, и потому оно становилось одновременно всеми нашими преступлениями. Поэтому мы принимали ее право выбирать из нас, забирать нас, запирать нас, отрывать от нас кого-то без права свидания и прогулки вокруг колодца. В этой старой крепости одного из детей раз в год, когда начиналась осень, забирали в комнату на четвертом этаже, а потом гроб прятали среди других гробов в мавзолее. Наверное, это законно. Если мы спрашивали, Одетта говорила, что не совсем, но нет руки, которая может по твоему пульсу ответить – отчего ты умер. Это всегда были тяжелые формы гриппа, она отделяла их от нас, и для них – это была форма гриппа, а от нас никогда не пряталось, что это Бумажная Грешница.
В конце лета красные цветы распускались у колокольни, нам это не нравилось – это было должное; на самом деле нам ничего не нравилось – так же, как Одетте, и даже после Башни авгуров нам ничего не могло понравиться, все свежие эмоции были притуплены этим детским зрелищем красных цветов. Наше либидо для той земли. Наши соки в ее руках, на ее пальцах; никаких слез, медленная скользкая темнота ночи, обвивающейся вокруг колокольни, продолжается внутри. Иногда я думал о Бумажной Грешнице, о той тактике безграничной чистоты, которую мы освоили, чтобы избегать ее выбора, – эта чистота, как кирпичная кладка и коллекция режущих (от двойки до туза режущего), не подразумевает ничего, кроме самой себя; мы выгуливали нашу сексуальность до первых деревьев за пробоиной, и наша сексуальность не хотела большего. Огромные города не воспалили, не подожгли нас, сладкая лакричная взвесь ночных светильников не кажется нам притягательной, чтение заторможено и инертно, тело с погруженными в сон нервами стареет медленно. В первую ночь осени, даже если не спится, нужно лежать с закрытыми глазами и не подсматривать, начинается неделя обхода и выбора.
Ты слушаешь, как скрипит старый дом, наконец появляются вкрапления новых скрипов, это не скрипы сами по себе, а движение, и так как никто не двигается в такие ночи, ты знаешь, что это Бумажная Грешница. В других сказках чудовища являются тем, чем они названы, но ее имя – это титул, впитавшийся с давних пор в ту землю, которая была передана по наследству, – стало этой землей, когда одна страна закончилась и внутри нее вызрела другая; ведущие катакомбное существование поэты продолжали помнить и транслировать ее сущность – наказывать, – а чтящие ее выбирают своим атрибутом жимолость и режущие предметы: булавки из стали в волосы или под кожу, алюминиевые чармы в форме двух слившихся затылком черепов, особого вида канделябры, где свечи нанизываются на тонкий штык и пламя, касаясь железа, слегка окрашивается мутно-серым. В эту ночь нельзя укутываться в одеяло с головой, даже спасаясь от сквозняков, никаких оправданий, только белая майка, руки должны просторно раскинуться в стороны. Это так вплавлено и переплетено с тобой, что очень страшно случайно шевельнуться и нарушить позу открытости и принятия Грешницы. Мышцы начинают затекать, хочется на бок, или даже на живот, изменений. Изменения кажутся необходимыми, всеоправдывающими.
Она начинает в одной и той же последовательности – от первой комнаты левого крыла первого этажа и далее по часовой стрелке в течение недели. Слышно, как платье касается пола, шаги скрипучие и немного искусственные, затем ручка двери дергается, два-три раза у Грешницы не получается повернуть ее, она как бы действует вслепую, потом со скрипом открывается дверь. Тут перед глазами начинает двигаться огонь, космические пятна, о которых Одетта говорит, что они приходят с севера, там, где земная ось какая-то не такая, как здесь, где космос в открытой близости.
Запах горящего воска с тепло-темным ладаном. Когда она подходит к постели, космос становится ближе, но потом от волнения забываешь о нем, становишься не больше собственного тела. Она знает, что грех – внутри твоих глаз, в запястьях и в подмышечных лимфоузлах. Вначале водит по подушке, ища очертания черепа, ее прикосновение к нему подвижно, ладонь Грешницы не может справиться с ясностью границы височной кости, наконец обхватывает его и большим пальцем ведет от виска к глазному яблоку, ощупывает веко, надавливает. Космос в одной секунде от сердца, а еще беспримесный детский страх. Убирает руку. Ищет запястье и крепко сдавливает его в поисках пульса. Грех там, где громче. А потом шарит подмышками. И все, ее вердикт – всегда после. Вначале она осматривает каждого, только потом выбирает. Это тоже беззвучно, мы пытаемся не спать этой ночью, чтобы увидеть, как именно она забирает, но всегда засыпаем, убаюканные сильным волнением или волей стенного камня, а утром кого-то уже нет, это не как что-то плохое – это наше обычное.
– Это роман со множеством карманов, если продолжать метафору с Покеткэтом, и некоторые карманы замечательные. Мне понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк, привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории.
– Этот текст я хотел сделать второй большой историей, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. Но потом я решил, что концовку можно сократить. Линия Макса абсолютно детерминированна, у него выхода нет, это история про его преступление, детектив, который, очевидно с самого начала, закончится убийством. А вторую историю я писал, не зная, чем она может закончиться, и специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого могу переживать. Двигался, совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения не нужны. Он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что не очень понятно, как и в какой форме после случившегося продолжать жить.
– Шахерезада, в конце концов, спасается.
– Ну, такая книжка уже есть – это "Мизери" Стивена Кинга. Там герой тоже спасается. Но в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно подчинено пережитому опыту.
– А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
– Нет, конечно. Несмотря на то что у меня даже нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это в себе и на себе. О какой свободе может идти речь?
– Макс думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть ощущение, что вас затянет обратно?
Текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться
– Такого ощущения у меня нет. Но в его случае это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Он не задается вопросом, как предотвратить возвращение. И вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Он ведь не делает совершенно ничего.
– В этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
– Нет.
– Вы делаете все, чтобы не вернуться?
– Не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Я не хочу возвращаться.
– В еще одном важном кармане этой книги персонаж переживает конверсионную терапию. Это фантастический сюжет, но связанный с нынешней войной и репрессиями. Он гомосексуал и получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его двойником. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
– Он начался с того, что я пытался работать с Chat GPT. Я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. С самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект. Это настолько архетипичная система, что ИИ должен прекрасно с ней работать. Но, оказалось, нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговоры о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием. И Chat GPT запрещено об этом говорить. Я разными способами пытался проломить этот барьер, и это получалось. После определенной тренировки можно заставить его ослабить цензуру. Но к моменту, когда это удалось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты от этого эксперимента. И я использовал их переработанные фрагменты.
Мои герои вливают в себя кровь русских военных, это они убивают детей
Как это связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это пришло из фейкового новостного повода, что в России хотят ее ввести. Дальше все это для меня слилось в одно целое; плюс тут важный момент, что герой сам хочет этой конверсионной терапии. То есть он ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу. В общем он действует как тренируемый искусственный интеллект. И таких людей я знаю.
– Мы все их знаем. И некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
– Так и у него конверсионная терапия получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, получилась.
– Русская квир-литература – существует ли она, интересна ли вам, чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
– Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не являются основным предметом моих текстов. Она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, не делаю текст активизмом. А так, естественно, русская квир-литература существует. Но непонятно, как мы можем сегодня о ней говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Это для них небезопасно.
– Существует как нечто достойное описания или как феномен маргинально-экзотический?
– "Лето в пионерском галстуке" существует даже как абсолютный мейнстрим. По крайней мере существовало до недавних пор. Так что есть целый спектр. До запрета все вполне существовало. Я говорю в том числе о большом потоке литературы Young Adult, несущем в себе феминистскую оптику, квир-оптику, желание инклюзивности и так далее. Это современная литература молодых людей про молодых людей.
– Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно?
Вспоминаю школьные годы, феномен абсолютной нормализации насилия
– Мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занят работой с переводом этой книжки на немецкий. Это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. А так я довольно много читал нон-фикшена и поствоенной немецкой литературы. Томаса Манна и прочих, как и все остальные. Три года всё это до дыр цитировалось в социальных сетях.
– Ваша книга на русском языке вышла в эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, с огромным товарооборотом, какое чувство вызывает эмигрантская литературная жизнь?
– Если мы вообще вычеркиваем факт, что идет война и каждый день умирает огромное количество людей, русские ракеты летят в Украину… то отход от монопольного и потокового производства, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, как учиться говорить заново, с кем и из какой позиции – это мне кажется достаточно важным. Но в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, так как война не вычеркиваема.
– Можно сказать, или это будет очень вульгарная трактовка, что бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, – это насилие военное, то есть мы все превратились в детей, которых преследует маньяк?
– В книжке об этом напрямую сказано, что Макс хочет написать серию текстов об истоках русского насилия. Все-таки война – это следствие. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют через жизненный опыт и как они нормализуют войну. То есть они не жертвы, и я не воспринимаю своих героев (кроме, собственно, последнего текста) как жертв этого процесса, они акторы, это они вливают в себя кровь русских военных, это они убивают детей.
– То есть мы приходим к вечному вопросу из фейсбука о коллективной ответственности?
– Нет, это конкретные истории про конкретных людей. И там специально практически нет реальной войны, то есть я пишу о психологической реальности, как к этому приходят. Здесь я использую свой опыт, вспоминаю школьные годы, феномен абсолютной нормализации насилия.
Для меня одними из самых шокирующих текстов о России сейчас оказались расследования про людей, которые добровольно подписывают контракт, и почему они хотят пойти туда. Многие из них говорят, что они просто чувствуют свои жизни разломанными и почему бы не трансгрессировать себя через это… То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно.
– Это чисто русский феномен?
– В данный исторический момент это русский феномен, конечно. Война происходит по инициативе России.
И для меня это вопрос о том, как люди ощущают ценность своей жизни. Цена жизни в России очень низкая, и власть хорошо заставляет людей чувствовать это.
– Кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений. Если мы вспомним Николаса Рея в "Укромной комнате", где красавица думает, что ее возлюбленный убил девушку. "Груз-200". То же самое у Макса с Феликсом. И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
В России все действует для того, чтобы сужать человеку возможность выбора
– Если ты считаешь, что твоя жизнь стоит очень мало, это значит, что ты чувствуешь, что у тебя практически нет путей к отступлению, у тебя нет других вариантов. Ты не можешь открыть "Тиндер" и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. В какой-то момент ты это принимаешь. Так же с восприятием войны. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принять. Или принять и одобрить. Ну, либо аннигилировать самого себя.
– Ну, и третий выход, который нашли вы, – сбежать от этого.
– Не думаю, что это выход для большинства. Мы же не говорим, что низкая ценность человеческой жизни обусловлена только психологической реальностью. Есть и финансовая сторона. То, как человек видит свои возможности. Есть ли у него возможность сесть в поезд в один конец или нет? Для большинства – нет.
– Это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли, есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, из "Ледяной трилогии", где большинство – это мясные машины, лишенные разума. И с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
– Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть якобы "мы", которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Где проходит эта очень удобная для восприятия граница. Если бы это было так, не была бы нужна государственная пропаганда. Зачем? Если все и так мясные машины. Нет, мне кажется, в России как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора.
Даже запрет ЛГБТ. В России же запрет не наложен на твою частную жизнь как таковую. Запрет наложен на выражение опыта, на походы в тематические места или, как мы видим в недавнем случае, тематический туризм. Они не запрещают тебе быть. Они запрещают тебе действовать. С каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее. Но даже так есть люди, которые готовы сопротивляться.
– Традиционный вопрос к писателю как к "учителю жизни": видите ли вы выход из этой ситуации?
– Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, в котором существует Россия. Когда Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. В любую из сторон.